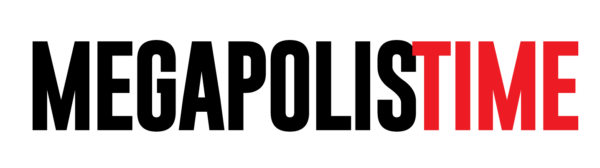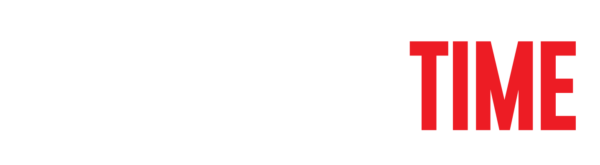Александр Захаров: «Искусство в России сейчас находится в таком же нелепом состоянии, как и вся страна»
«В каждом из нас живет ребенок. Когда мы плачем — это его слезы, смеемся — это его смех. Все, что есть в нас искреннего, непосредственного — из детства», — отметил в одном из интервью знаменитый современный художник Александр Захаров. В этих словах очень тонко и четко отражается мировоззрение автора, прослеживается его неповторимый творческий стиль. Действительно, Захарова невозможно спутать с кем-то еще. Его невероятно трогательные и в тоже время многозначительные работы, изображающие столь милый и наивный, игрушечный мир, безусловно, привлекают к себе внимание, как зрителей нежного возраста, так и настоящих ценителей искусства. При этом мало кто знает, каким был истинный творческий путь талантливого художника. Он работал в разных техниках, имел славу хулигана и наглеца, долгое время жил в США и Европе, становился участником и победителем ряда престижных премий, а сегодня он готовит очередную выставку в Москве. Об этом и многом другом расскажет сам Александр Захаров.
— Александр, не секрет, что Ваш художественный почерк явил собой некое новое направление в искусстве. Расскажите подробнее о творческом стиле и технике создания произведений сегодня.
-Сейчас я занимаюсь техникой художественной печати нового поколения с использованием цилиндрического линзового пластика, или по-простому — стерео печатью. То есть, само изображение — это может быть фотография, картина, или компьютерная графика — изначально двухмерное. Но оно обрабатывается с использованием специальных компьютерных программ, а затем печатается на каком-либо носителе, например, на бумаге с последующим совмещением с плоской линзой или на самой линзе с обратной стороны, после чего изображение трансформируется в стерео формат.
Кроме того, я вношу в свои работы элементы движения, и они становятся похожи на короткий мультфильм. В итоге получается «огромная» стерео открытка с меняющимся действием. С юности я всегда воспринимал любое изображение как повод для дальнейшей трансформации, будь то графический рисунок или живопись. Рисунки тушью переводил в офорты или создавал разнообразные карандашные изображения на бумаге, которые затем ложились на литографский камень или пленку, а также занимался шелкографией.
Сейчас я работаю над тем, что создаю живописное изображение, которое обычно очень маленького размера, концентрированное, похожее на фотографию, но обязательно с динамичным сюжетом. Это похоже на остановленный кадр из несуществующего мультфильма или комикса. Далее этот кадр сканируется. Затем изображение — эту живописную «матрицу» — я превращаю в стерео панель большого размера. То есть, изображение становится визуально трёхмерным. При перемещении зрителя вправо-влево от центра изображения возникают или пропадают какие-то детали, «герой» перемещается, происходят изменения в природе и так далее.
Именно этим я занимаюсь последние несколько лет. В стерео анимации я вижу очевидные перспективы для решения своих художественных задач. К тому же, эта техника помогает мне расширить зрительскую аудиторию: она становится все более молодой.
Не считаю, что мой художественный стиль какой-то уникальный. Просто у меня есть некое пространство, с которым я работаю. Оно находится на границе между комиксом, классической иллюстрацией 18-19 века, восточной миниатюрой с элементами фотореализма.
— Какие герои являются главными действующими лицами Ваших работ?
— В основном, мои герои – это разные маленькие, бессмысленные, глупые существа; герои популярных мультфильмов. Например, розовые мишки, гномы, эльфы, всевозможные детские игрушки. Последние лет пятнадцать я стараюсь не отвлекаться на серьезные темы, держусь подальше от «умных» переживаний, от актуального диалога с «образованным» зрителем. Никакой философии, ничего подавляющего, сложного, пафосного; меня интересуют только всякие смешные или глупые вещи.
Тем не менее, я долгие годы сам находился на той территории, которая вообще не имела отношения к детям в качестве собеседников. Более того, с начала осмысленной работы был абсолютно убежден в том, что в искусстве, все «классические» представления о красоте должны быть отброшены. Моим художественным кредо стала издевка над ожиданием от художника какого-то «чуда», неуважение к наивному зрителю. Я относился с презрением к человеку, который приходит, смотрит на произведение искусства и ищет в нем для себя что-то привлекательное, «комфортное», удивляющее. Я действовал по принципу создания зоны дискомфорта по всем параметрам. Это не было стремлением создания формального раздражителя, когда ты изобразил что-то и человек наивный просто не понимает, что это перед ним такое. Мне было интересно вовлечь «простака» во внешне «удобную» картинку, завлечь любоваться, а оставить с ощущением отвращения и беспокойства. Иными словами, несколько смысловых слоёв в одном изображении. Искусство для меня было по сути инструментом разрушения, провокации. Все это по содержанию находилось далеко как от моих сегодняшних «героев», так и от аудитории.

— Почему Вы как человек, являющийся абсолютным лидером, по своим убеждениям, можно даже сказать хулиганом по духу, решили обратиться к миру детства, заменить провоцирующие, агрессивные сюжеты на маленький, наивный мир?
Дети в большей степени, чем взрослые, обладают коллективным доверием. Поэтому, если не воспринимать характеристику «лидер», как что-то жесткое, авторитарное, имеющее отношение к каким-то социально-захватническим целям, то она вполне может быть неплохим дополнением к «сказочнику». Я бы хотел быть сказочником-лидером для детей и подростков.
Я, больше интуитивно, чем логически, на рубеже своего 40-летия стал понимать, что неправильно что-то в моем мире. Всегда обращал внимание на отсутствие детей на моих выставках. Да и, если честно, то сам просил друзей не приводить с собой детей; было стыдно за содержание моих « скабрезных» картинок. Логика всего этого довольно проста, дети не нужны для участия в матерном разговоре о сексуальных трансформациях, насилии и смерти.
Модернизм ( а я был вполне «образованный» постмодернист) говорит нам в-основном о смерти и сосредоточен на вопросах экзистенциального плана. Содержание моих работ было, в частности. совсем не детское и даже не гуманистическое. Вся образованная, «взрослая» аудитория, воспитанная на модернизме заворожена процессом деконструкции, описанием распада. Это скучно; точнее мне стало скучно и неинтересно. Это всё разговор о прошлом. Я пришел к выводу, что бегаю по кругу и получаю одни и те же ответы на одни и те же вопросы. Захотелось понять тех, кто не кричит от отчаяния и метафизического переживания скорой гибели, не ищет единомышленников в своём негативном состоянии а смеётся, мечтает или строит будущее.
Я отказался от отстраненного, постороннего взгляда на предметы или явления, стал эмоционально собирать некий «мир», начал работать над чем-то, похожим на своеобразную серию иллюстраций к несуществующей детской книжке. Я перешел на территорию, которая, как оказалось, имеет свой логический вектор развития. Выйти из такого пространства и вернуться назад, я уже не захотел. Стал дальше продвигаться в этом направлении, расширять и осваивать территорию, куда я бы смог «пригласить» своих будущих внуков и их ровесников.

— Что стало основной причиной Вашего переезда из России — социальные изменения, которые происходили в стране?
— Это была длинная цепочка разного рода обстоятельств. Но если быть совсем честным перед самим собой, то конечно, ключевую роль сыграла смесь самоуверенности, алчности и страха. Не последнюю роль сыграло очень «шизофреническое» ощущение, что ты у себя на родине разрушаешь привычные нормы, но поддержка у тебя внутри страны, «крыша» — это молодые чекисты и комсомольцы, а финансовая поддержка — иностранцы. Все официальные мероприятия, которые тогда проводились в стране в области изобразительного искусства, были под жесткой цензурой. Но с некоторых эта цензура была снята полностью. И вот представьте себе картину, когда молодым людям дают возможность делать то, за что «простого» советского человека должны были бы посадить в тюрьму. Мои друзья и знакомые ещё боялись даже слово открыто сказать против советской власти, а то, что мы вытворяли публично, никто и в мыслях позволить себе не мог. Мы были отвязанное молодое поколение, да еще и получали за свои плевки в сторону обывателя и партийной идеологии запрещённую тогда в стране иностранную валюту . Причем об этом знали все: и КГБ, и комсомол, и отдел культуры ЦК партии. Но нас никто не преследовал, наоборот, еще больше подзадоривали, подбадривали, говоря, что вы «посланники перестройки», без проблем выдавали загранпаспорта, разрешали открывать счета в иностранных банках; не предпринимали мер по поводу антисоветских интервью, как внутри, так и за пределами Советского Союза.
На мое решение покинуть Россию повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, уверенность в себе и желание почувствовать, что же на самом деле происходит за пределами Союза. Во-вторых, страх, что, если не используешь эту возможность сейчас, второго шанса может и не быть; зато очень велик шанс пострадать за «капитализм». В-третьих, предчувствие надвигающегося хаоса 90-х годов, которое тогда у меня было очень сильное. За себя у меня, циника и «панка», страха не было совсем — я жил на постоянном адреналине, а за своих детей страх был. Помню, как сидел в 1988-м году в Хельсинки, готовил выставку и, включая каждое утро телевизор ожидал сообщения, что Горбачёв – арестован, границы закрыты. Я в Финляндии, а семья – в закрытой уже окончательно стране. Это сейчас звучит смешно, а тогда мне было не очень весело.
Я не был преступником, но с точки зрения советского обывателя имел вполне «преступный» взгляд на окружающий мир, то есть достаточно циничный и жесткий. В 1989м года мы с первой женой вернулись из Финляндии, так как мои персональные выставки с успехом прошли в Финляндии и Швеции. Естественно, там нужно было открыть счета, иметь дело с валютой, давать откровенно антисоветские интервью, а это все были «расстрельные» статьи УК при советской власти. И я чувствовал, что назревает что-то нехорошее. У меня было ощущение момента; я решил, что нужно уезжать, хотя бы на время действия контракта с какой-нибудь галереей . Предложений было несколько — решил попробовать США. Конечно, мой поступок вызвал волну непонимания, так как до этого момента даже мысли покинуть страну никогда не возникало..

— Что Вы думаете о нашем времени: насколько сейчас комфортно или тяжело существовать в нем художнику?
— Непростой вопрос. Современное искусство и искусство вообще неразрывно связаны с жизнью в целом, они вовсе не оторваны от нее, это не отдельная территория, где летают эльфы или демоны. Все без исключения люди связаны с окружающей жизнью своими планами, энергией, находятся в постоянном резонансе с тем, с чем они сталкиваются ежедневно. Искусство – это и есть отражение и осмысление художником этого резонанса. Инструменты у всех художников во всём мире сегодня примерно одинаковые. Современные инструменты – это новые технологии, визуальные средства коммуникации и многое другое, а не только краски и кисти. Величайшие шедевры Древнего Египта или эпохи Возрождения, к примеру, создавались на пике использования передовых, для того времени, технологий и веры в прогресс, а также при наличии колоссальных финансовых затрат.
Художники в любой стране, во все эпохи – это очень чувствительная, «шаманско-идеологическая» часть общества, а сегодняшний общероссийский страх перед вызовами нового времени, жалкое желание спрятаться в недалёкое прошлое, полное отсутствие средств и понимания необходимости культурной экспансии — не лучшая обстановка для развития искусства. Экономически, политически и морально Россия, к сожалению, в глубоком нокауте. Старые ресурсы уже исчерпаны, а новые пока не найдены. Поэтому современное искусство в России, на мой взгляд, сейчас находится в таком же нелепом и жалком состоянии, как и вся страна.
Я не беру в учет отдельные обстоятельства жизни и самочувствие некоторых «успешных» персонажей, которые, к примеру, по-прежнему пишут или лепят портреты партийных или духовных вождей. Это не «современное искусство», а скорее сфера декоративного обслуживания. Немногочисленные же известные актуальные художники старшего и среднего поколения, живущие в России и за границей, относятся, к «средней коммерческой» и «средней статусной» категориям мировых рейтингов; они представлены, в-основном, не ведущими художественными галереями, участвуют в локальных международных музейных проектах, и, в целом, у меня остаётся ощущение какого-то безвременья в российском искусстве.

—Так есть ли все-таки искусство в современной России?
Безусловно есть, но, на мой взгляд, в пассивной, вялотекущей форме. Искусства потенциально «вообще не быть», просто не может. Другой вопрос, что современное искусство – это не то, что в российском обществе по инерции считается «искусством». Потеря российским обществом резонанса с окружающим миром, стремление к изоляции, внутренняя энтропия не лучшая почва для процветания. Конечно, мы знаем целые периоды, эпохи упадка в искусстве разных стран и народов, но нам они не очень интересны. Эти периоды являются для последующих поколений скорее примерами «болезни», патологии развития.
Несмотря ни на что, у нас большое количество талантливой молодежи. Не будем забывать, что Россия – страна с богатейшей культурой и историей. Но при этом настоящего общественного доверия сегодня к творческой молодёжи нет. Регрессивная, оборонительная концепция современной России: «зачем нам это?» приводит к тому, что на современное искусство российское общество не хочет и не может тратить свои стремительно исчезающие ресурсы. Фигурально выражаясь, молодой художник может, например, сделать «хоругвь» (за свой счёт), вышить на ней золотом лик Спасителя и пойти с ним на улицу. Но если нет крестного хода, да и «храм» снесли, то зачем он будет тратить время и средства на изготовление «хоругви» и с ней ходить? Лучше художник будет делать «салфетки», чтобы ставить на них дома чашку с чаем. Значительные произведения искусства возникают не тогда, когда есть талантливые художники, а только тогда, когда общество, в лице его элиты, хочет выразить себя, да ещё и окружающим народам показать свою силу и энергию! Искусство, конечно, не спорт, но механизмы развития и общественной поддержки аналогичные.

-Вы планируете провести выставку в Москве?
Осенью в одном месте планирую сделать выставку «этюдов с натуры». Можно сказать, что у меня появилось желание вспомнить то время, когда я выходил с этюдником на природу. Ни я, ни кто-либо из моего окружения сегодня не пишет с натуры, поэтому это для меня немного «экспериментальный» проект. Интересно самому, что из этого получится.
Еще, в сентябре будет Cosmoscow; фонд RuArts, с которым сотрудничаю уже 10 лет, выставит мои стерео панели и несколько живописных миниатюр.
— В одном из интервью Вы назвали своих персонажей-игрушек «ангелами». Почему именно такое сравнение? Кто тогда для Вас демоны в искусстве?
В детстве мы всё время всматриваемся в микромир, в надежде увидеть скрытое, потустороннее, волшебное. В этом возрасте мы ещё недалеко отошли от места проживания ангелов и надеемся их ещё увидеть здесь, на земле. В последние годы я пишу маленькие картинки, в которых только ребенок, в отличие от взрослого видит все детали. Я оставляю взгляду «ищущему ангела» надежду его увидеть.
В течении последних нескольких лет я сканирую, увеличиваю и перевожу в стерео формат все свои новые работы. Восприятие детьми и молодёжью новых визуальных эффектов сильно отличается от «взрослого». У большинства зрителей среднего и пожилого возраста от любых стереоэффектов, а также ярких, «кислотных» сочетаний цвета кружится голова, появляются странные ощущения в глазах. А дети и подростки наоборот ищут этих сочетаний и ощущений. Для них эта стереоскопичность изображения и постоянные изменения внутри художественного объекта абсолютно естественны. То, что для молодого волшебство, вдохновение, то для старого – дискомфорт, скука и пошлость. Я уверен, что эта потребность детской и подростковой души в максимально ярком, изменчивом и трёх-четырёхмерном мире – это остаточные воспоминания о мире горнем, обители ангелов. Вспомните невероятную яркость росписей Сикстинской капеллы, почти нестерпимое сияние церковных витражей, свечение Византийских мозаик и храмовых икон. А ведь прошли века. Можно только представить себе, как воспринимали их современники!
В плане содержания своих последних работ, я стараюсь войти в резонанс с самим собой из далёкого прошлого; когда мир, населенный ангелами был рядом. Образы детских игрушек стали появляться у меня в работах, вытесняя своим присутствием хаос, разгоняя моих внутренних демонов. Я исключаю образы, которые транслируют страх смерти, распада; то, что ощущаю «демоническим». Для меня демоны в произведении искусства – это те ощущения, которые является причиной чувства опустошения, подавленности, остающихся после контакта с произведением искусства. То состояние, которое приводит в отчаяние, лишает надежды.
Мария Смерчинская
Заглавная картина: «Нерешительность», 20х15 см, дерево, масло, 2015г